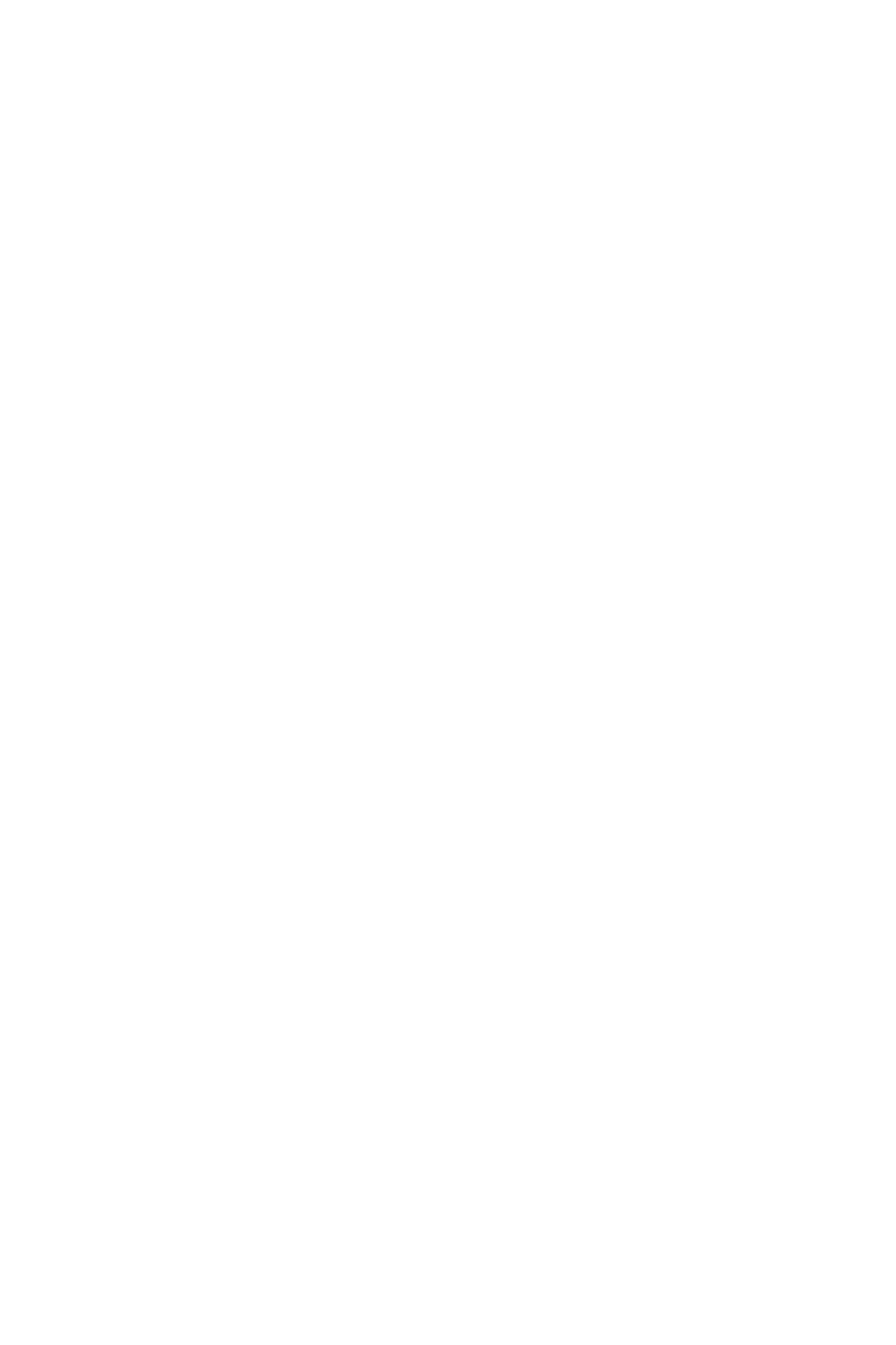
Томас Огден "Разговор как сно-видение", часть 2
II. «Разговор как сно-видение» своего существования
Теперь я опишу клинический случай, в котором «разговор как сно-видение» послужил основным средством, с помощью которого пациент смог начать развивать свою собственную рудиментарную способность «сно-видеть свое существование».
Мистер Б. рос в такой семье, в которой на него никогда не обращали внимания. Он был самым младшим из пятерых детей, родившихся в ирландской католической семье, живущей в рабочем пригороде Бостона. В детстве над пациентом издевались трое его старших братьев, унижали и пугали его при каждом удобном случае. Мистер Б. сделал все возможное, чтобы «стать невидимым». Он проводил дома как можно меньше времени, а, находясь там, старался не привлекать к себе внимание. Он рано понял, что если будет привлекать внимание родителей к своим проблемам, то это только ухудшит ситуацию, поскольку это всегда приводило к тому, что его братья еще больше ожесточались по отношению к нему.
Тем не менее, он упорно цеплялся за надежду, что его родители, особенно мать, увидят, что происходит, без необходимости говорить им об этом.
Начиная с семи или восьми лет мистер Б. погрузился в чтение. Он буквально читал полку за полкой книг в общественной библиотеке. Он сказал мне, что я не должен путать его чтение с интеллектом или с приобретением знаний: «Мое чтение было чистым побегом. Я терялся в историях, и уже через неделю после прочтения книги, я ничего не мог рассказать о ней. [В одной из моих работ (Ogden, 1989), я говорил об использовании чтения в качестве сенсорно-доминирующего опыта, который может служить аутистической формой защиты.]
Несмотря на то, что я симпатизировал мистеру Б., я бы сказал, что первые четыре года анализа были довольно безжизненными. Мистер Б. говорил медленно, осторожно, как будто взвешивая каждое слово, прежде чем произнести его. Со временем мы с ним пришли к выводу, что это отражало его страх перед тем, что я буду использовать его слова против него, как способ унижения (в братском переносе), или почему-то не сумею распознать то, что в его словах было самым важным, но оставалось невысказанным (в материнском переносе).
Только на пятом году этого анализа, с пятью сессиями в неделю, пациент стал запоминать и рассказывать мне свои сны. Среди этих ранних снов был один, в котором присутствовал только ужасающий образ обшарпанной восковой фигуры Мадонны с младенцем на руках в музее восковых фигур. Больше всего в этом сне настораживал пустой взгляд, которым каждый из них смотрел на другого.
Сессия, которую я приведу ниже, состоялась вскоре после сновидения о Мадонне с младенцем. Это был период анализа, когда мы с пациентом уже начали разговаривать друг с другом с некоторым оживлением, но этот способ разговора все еще был настолько новым, что казался хрупким и, порой, немного неловким.
Мистер Б. начал сессию со слов, что на работе он услышал, как одна женщина говорила коллеге, что не может смотреть фильм братьев Коэнов «Воспитание Аризоны» (Raising Arizona), потому что не видит ничего смешного в похищении ребенка[1]. Затем мистер Б. спросил меня: «Вы смотрели этот фильм?» Это был второй или третий раз за весь анализ, когда мистер Б. задал мне прямой вопрос такого рода. Аналитические отношения к этому моменту были такими, что фокус почти полностью был смещен на переживания и душевное состояние пациента, а также практически не было явных упоминаний, не говоря уже о дискуссиях, связанных с моим опытом. Мне казалось неестественным просто ответить на его вопрос, но в то же время я не представлял, как можно отреагировать, рефлексивно вернув пациенту вопрос, например, спросив, почему он задал его, или предположив, что он боялся, а вдруг я не пойму значения того, что он собирался сказать. Я сказал мистеру Б., что видел этот фильм несколько раз. Только в момент ответа мне стало ясно, что таким образом я сказал пациенту больше, чем он у меня спрашивал. Но я не считал это промахом, а скорее добавлением новой линии к нашей «игре в каракули»[2]. Тем не менее, я немного беспокоился, что пациент воспримет как навязчивость эту «добавленную линию», а это, в свою очередь, вызовет что-то вроде нарушения правил игры.
Мистер Б. повернул голову на подушке аналитической кушетки так, как будто удивился тому, что я ответил таким образом. Нам обоим стало ясно, что мы находимся в неизведанных водах. Когда происходил этот эмоциональный сдвиг, у меня в голове был ряд мыслей о переносе и контрпереносе. Задавая прямой вопрос, Мистер Б. осмелился стать менее «невидимым», и я без сознательного намерения ответил ему тем же. Более того, он пригласил меня присоединиться к разговору о работе двух братьев, братьев Коэнов, которые вместе творили невероятные вещи. Созидание чего-либо (становление кем-либо) вместе с братом было тем опытом, который пациент упустил с собственными братьями. Возможно, введение их в анализ отразило его желание получить такой опыт со мной. Я решил ничего из этого не говорить пациенту, потому что посчитал, что это отвлечет и подорвет то пробное движение к эмоциональной близости, которое каждый из нас делал на встречу друг другу.
С несвойственной ему интенсивностью в голосе мистер Б. сказал, что он подумал, что женщина, которую он подслушал, относилась к фильму Воспитание Аризоны как к документальному: «Мне кажется, что я сильно взволнован этим, но этот фильм — один из моих любимых. Я видел его так много раз, что знаю диалоги наизусть, поэтому мне невыносимо слышать, как фильм бессмысленно уничтожают»[3].
Я сказал: «В каждом кадре этого фильма есть ирония. Иногда ирония может быть пугающей. Вы никогда не знаете, когда это повернется против вас». Несмотря на то, что пациент бессознательно комментировал то, что происходило между нами, наше взаимодействие становилось менее бессмысленным и ригидным по сравнению с нашим обычным паттерном. И если бы я ответил на том (обычном) уровне, то нарушил бы то, что, как я чувствовал, становилось «разговором как сно-видение».
Мистер Б. сказал: «Это не документальный фильм, это сон. Он начинается с того, что Николаса Кейджа фотографируют для протокола в тюрьме после того, как его арестовали за очередное неудачное мелкое преступление. Как будто с самого начала существуют два уровня реальности: человек и фотография. Я бы никогда не подумал о том, что можно начать фильм именно таким образом. И огромный парень на мотоцикле — больше архетип, чем человек, — живет в фильме в параллельной реальности, которая оторвана от реальности других частей фильма. Простите, что я так увлекся». Голос пациента был полон детского восторга.
Я спросил: «Почему бы и нет?» (Это был не риторический вопрос. Я выразил весьма упрощенным образом то, что у пациента в детстве были весьма веские причины на то, чтобы чувствовать, что говорить с восторгом очень опасно. Но эти причины соответствовали другой реальности, реальности его прошлого, которое часто затмевало реальность настоящего.)
Мистер Б. продолжил без паузы: «Моя любимая часть фильма — это голос за кадром в конце [действие происходит после того, как Николас Кейдж и Холли Хантер вернули украденного ребенка, а Холли Хантер сказала Кейджу, что уходит от него]. Лежа рядом с ней в постели, он говорит так, как будто размышляет, засыпая и одновременно мечтая. В его голосе чувствуется, что он готов пойти на все, что угодно, лишь бы получить второй шанс и сделать все правильно. Но он достаточно хорошо знает себя, чтобы понимать, что с огромной долей вероятностии он опять облажается. Теперь до меня дошло, что конец фильма является повторением, только в более насыщенной форме, той начальной сцены, в которой делают фотографии для полицейских архивов после каждого его ареста. Он никогда не сможет сделать все правильно. Но к концу фильма понимаешь его и становится больно от того, что у него никогда не получится. У него доброе сердце. В закадровом монологе в конце он представляет себе жизнь младенца, Натана-младшего [ребенка, которого они украли и затем вернули его семье]. Кейдж как бы различает в будущем свое невидимое присутствие в жизни этого ребенка, по мере его взросления. Ребенок может чувствовать, что кто-то с любовью наблюдает за ним, гордится им, но ребенок не может связать это чувство с конкретным человеком». Конечно, я услышал это как бессознательный способ пациента сказать мне, что он чувствовал, как я с любовью смотрю на него. Кроме того, любимый ребенок, о котором мы с мистером Б. сно-видели / (которого) зачали, казалось, «воплотил» сам аналитический опыт, который на этой сессии только что «ожил» в процессе нашего с пациентом совместного сно-видения.
Я сказал мистеру Б.: «В последней сцене Николас Кейдж также представляет себе пару — возможно, себя самого с Холли Хантер — со своими детьми и внуками».
Мистер Б. взволнованно перебил меня и сказал: «Да, в своих мечтаниях в конце он получает и то, и другое. Я хочу верить, что он смотрит в будущее. Нет, это даже более мягкое чувство. Это ощущение возможного. Даже для такого неудачника, как Кейдж, если он может что-то представить, то есть вероятность, что это случится. Нет, это звучит так банально. Я не могу найти правильный способ, чтобы выразить это. Это так неприятно. Если бы он мог вообразить это, то это произошло бы во сне. Нет, я не могу выразить это так, как я это имею в виду».
Я решил не фокусироваться непосредственно на том, какое значение для пациента имела трудность в подборе правильных слов. Она могла быть обусловлена его беспокойством по поводу любви, которую он чувствовал ко мне, и надеялся, что это было взаимно. Вместо этого, я выразил свои комментарии в рамках того «разговора как сно-видения», который, как я чувствовал, происходил. Я сказал: «Посмотрите, сможет ли то, что я сейчас скажу, выразить то, о чем вы думаете. Для меня звук голоса Кейджа, когда он рассказывает свой сон в конце, отличается от того, как его голос звучал на протяжении всего фильма. Он не притворяется, что изменился, чтобы заставить Холли Хантер остаться с ним. Происходит настоящее изменение его сущности. Это можно услышать в его голосе». Только когда я произнес эти слова, я понял, что имел в виду не только образы «разговора как сно-видения» пациента, но также косвенно давал ему понять, что слышу и осознаю разницу в его голосе, а также в своем собственном и в голосе Кейджа.
С облегчением Мистер Б. сказал: «Да, это так».
В тот момент анализа ни мистер Б., ни я, не стремились говорить прямо о наших аналитических отношениях, но нам обоим было ясно, что между нами происходило что-то новое и значимое. Несколько недель спустя после этой сессии, на которой мы обсуждали фильм «Воспитание Аризоны», мистер Б. поделился своими впечатлениями о ней. Он сравнил свой опыт во время этой сессии с опытом чтения книг в детстве: «То, как я говорил о «Воспитании Аризоны» разительно отличалось от того, как я читал, когда был ребенком. Читая, я становился частью воображаемого мира другого человека. Размышляя же об этом фильме так, как мы это делали, я обнаружил, что не теряю себя, а наоборот, становлюсь больше собой. Я говорил не только о том, что Николас Кейдж и братья Коэны создали; я говорил о себе и о том, что я думал об этих фильмах».
И немного позже в анализе мистер Б. снова вернулся к этой сессии: «Мне кажется, что неважно, о чем мы говорим — о фильмах, книгах, машинах или бейсболе. Раньше я думал, что есть вещи, о которых мы должны говорить, такие как секс, сны и мое детство. Но сейчас мне кажется, что главное то, как мы говорим, а не то, о чем мы говорим».
Возможно, фильм «Воспитание Аризоны» захватил воображение пациента потому, что это история о двух людях, которые неспособны создать (сно-видеть) свою собственную жизнь, поэтому безуспешно пытаются украсть часть чужой жизни. Но я верю, что эмоциональное значение сессии заключалось не в символическом значении фильма, а скорее, самым важным был опыт нашего совместного разговора / сно-видения. Это был опыт, в котором мистер Б. «сно-видел себя» в том смысле, что он создавал голос, который чувствовался как его собственный. Я думаю, что он был прав, когда, возвращаясь к этой сессии, он сказал, что не имеет значения то, о чем мы говорили. Значимым для него был опыт его появления (обнаруживания себя) в самом процессе сно-видения и разговора голосом, который казался ему собственным.
Читая мою версию диалога, состоявшегося на той сессии, меня поразило то, насколько сложно было передать словами аналитический опыт «разговора как сно-видения». Диалоги, приведенные в этой статье, часто играют только «ноты или аккорды», но не «создают музыку» интимного многоуровневого обмена, который представляет собой «разговор как сно-видение». Эта «музыка» скрывается в тоне голоса, ритме речи, «наложении звуков» (Frost, 1942, p. 308) слов и фраз и так далее. Характер музыки «разговора как сно-видения» сильно различается от пациента к пациенту, и от переноса к переносу.
В одной сессии музыка «разговора как сно-видения» может быть музыкой разговора девочки-подростка с ее отцом за обеденным столом после того, как остальная часть семьи уже ушла. А ее звук — это звук, который отец слышит в голосе своей дочери (прекрасной в его глазах), когда она говорит свои мысли обо всем на свете, о чем ей хочется поговорить. В другом случае переноса - контрпереноса, звук «разговора как сно-видения» может быть звуком трехлетнего мальчика, лепечущего, пока его мать моет посуду. Он говорит нараспев, как будто поет колыбельную, полу-связными фразами о том, что его брат - придурок, и что он любит, когда Друпи летает, и что он надеется, что завтра у них снова будет кукуруза в початках, и так далее и тому подобное. А еще в одном случае переноса - контрпереноса «разговор как сно-видение» похож на душераздирающий крик двенадцатилетней девочки, которая, проснувшись посреди ночи в слезах, рассказывает матери, какой уродливой и глупой она себя считает, и что ни один мальчик никогда не полюбит ее, и она никогда не выйдет замуж. Именно такие звуки так сложно передать в письменной форме.
Заключительные комментарии
Я завершу эту статью тремя замечаниями о «разговоре как сно-видении». Во-первых, как я пытался показать, в опыте «разговора как сно-видения», даже когда аналитик участвует в сно-видении пациента, в конечном итоге сно-видение принадлежит пациенту. Если не принимать во внимание этот фундаментальный принцип, анализ может превратиться в процесс, в котором аналитик «сно-видит пациента» вместо того, чтобы пациент сно-видел себя сам.
Во-вторых, я хотел бы подчеркнуть, что, когда я участвую в «разговоре как сно-видении», о котором я говорил в этой статье, мне всегда кажется, что требуется большее, а не меньшее, внимание к аналитическому сеттингу. Мне кажется, что для того, чтобы аналитик ответственно участвовал в «разговоре как сно-видении», который существенно отличается от работы с пациентами, способными большую часть времени сно-видеть в форме свободных ассоциаций, требуется большой аналитический опыт. Участие аналитика в «разговоре как сно-видении», подразумевает, что он четко осознает разницу между ролями аналитика и пациента на протяжении всего процесса разговора. В противном случае пациент лишается аналитика и аналитических отношений, в которых так нуждается.
Наконец, описывая различные формы «разговора как сно-видение», я не пытаюсь аргументировать «нарушение правил» психоанализа или создание новых правил. Скорее, я рассматриваю то, что описано, как импровизации, которые сформировались в контексте мой аналитической работы с конкретными пациентами при определенных обстоятельствах. Говоря это, я возвращаюсь к тому, что считаю столь фундаментальным для психоаналитической практики – к усилиям нас, аналитиков, изобретать психоанализ заново с каждым из пациентов.
Библиография
Bion WR (1962a). Learning from experience. In: Seven servants: Four works. New York, NY: Aronson, 1977.
Bion WR (1962b). A theory of thinking. Int. J. Psycho-Anal. 43: 306-10.
Bion WR (1992). Cogitations. London: Karnac. 406 p.
Coetzee JM (1983). Life & times of Michael K. New York, NY: Penguin. 184 p.
Coetzee JM (1990). Age of iron. New York, NY: Penguin. 198 p.
Coetzee JM (1999). Disgrace. New York, NY: Penguin. 220 p.
De M'Uzan M (2003). Slaves of quantity. Psychoanal. Q.72: 711-25.
Freud S (1905). Three essays on the theory of sexuality. Standard Edition7, p. 123-243.
Frost R (1942). Never again would birds' song be the same. In: Poirier R, Richardson M, editors. Collected poems, prose & plays, p. 308. New York, NY: Library of America, 1995.
Gabbard GO (1997a). The psychoanalyst at the movies. Int. J. Psycho-Anal.78: 429-34.
Gabbard GO (1997b). Neil Jordan's The Crying Game [Review]. Int. J. Psycho-Anal. 78: 825-7.
Gabbard GO, Gabbard K (1999). Psychiatry and the cinema, 2nd ed. Washington, DC: American Psychiatric. 408 p.
Grotstein JS (2000). Who is the dreamer who dreams the dream? A study of psychic presences. Hillsdale, NJ: Analytic Press. 347 p.
McDougall J (1984). The ‘dis-affected’ patient: Reflections on affect pathology. Psychoanal. Q. 53: 386-409.
Meltzer D (1983). Dream-life: A re-examination of the psycho-analytical theory and technique. Strath Tay: Clunie. 184 p.
Ogden TH (1989). The schizoid condition. In: The primitive edge of experience, p. 83-108. Northvale, NJ: Aronson. 244 p.
Ogden TH (1997a). Reverie and interpretation. Psychoanal. Q. 66: 567-95.
Ogden TH (1997b). Reverie and interpretation: Sensing something human. Northvale, NJ: Aronson. 286 p.
Ogden TH (2003). On not being able to dream. Int. J. Psycho-Anal. 84: 17-30.
Ogden TH (2004). This art of psychoanalysis: Dreaming undreamt dreams and interrupted cries. Int. J. Psycho-Anal. 85: 857-77.
[1] В фильме «Воспитание Аризоны» пара (в исполнении Николаса Кейджа и Холли Хантер), не имея возможности зачать собственного ребенка, похищает одного из пятерых близнецов, недавно родившихся у Натана Аризоны и его жены. Кейдж и Хантер убеждают себя, что семья, в которой так много детей, вряд ли заметит пропажу одного из них.
[2] «Игра в каракули» (Squiggle game в переводе с английского) была впервые разработана и описана Дональдом Винникотом в книге «Психотерапевтическое консультирование в детской психиатрии», как проективная рисуночная техника, имеющая диагностическое и терапевтическое значение. – Прим. пер.
[3] Я снова и снова поражаюсь тому, что кинообразы и нарративы обладают способностью вызывать сновидческие образы и нарративы (см. Gabbard, 1997а, 1997b; Gabbard и Gabbard, 1999).
Перевод текста: Олеся Гайгер и Елизавета Ермолова
Фотограф: Полина Калашникова
Фотограф: Полина Калашникова
