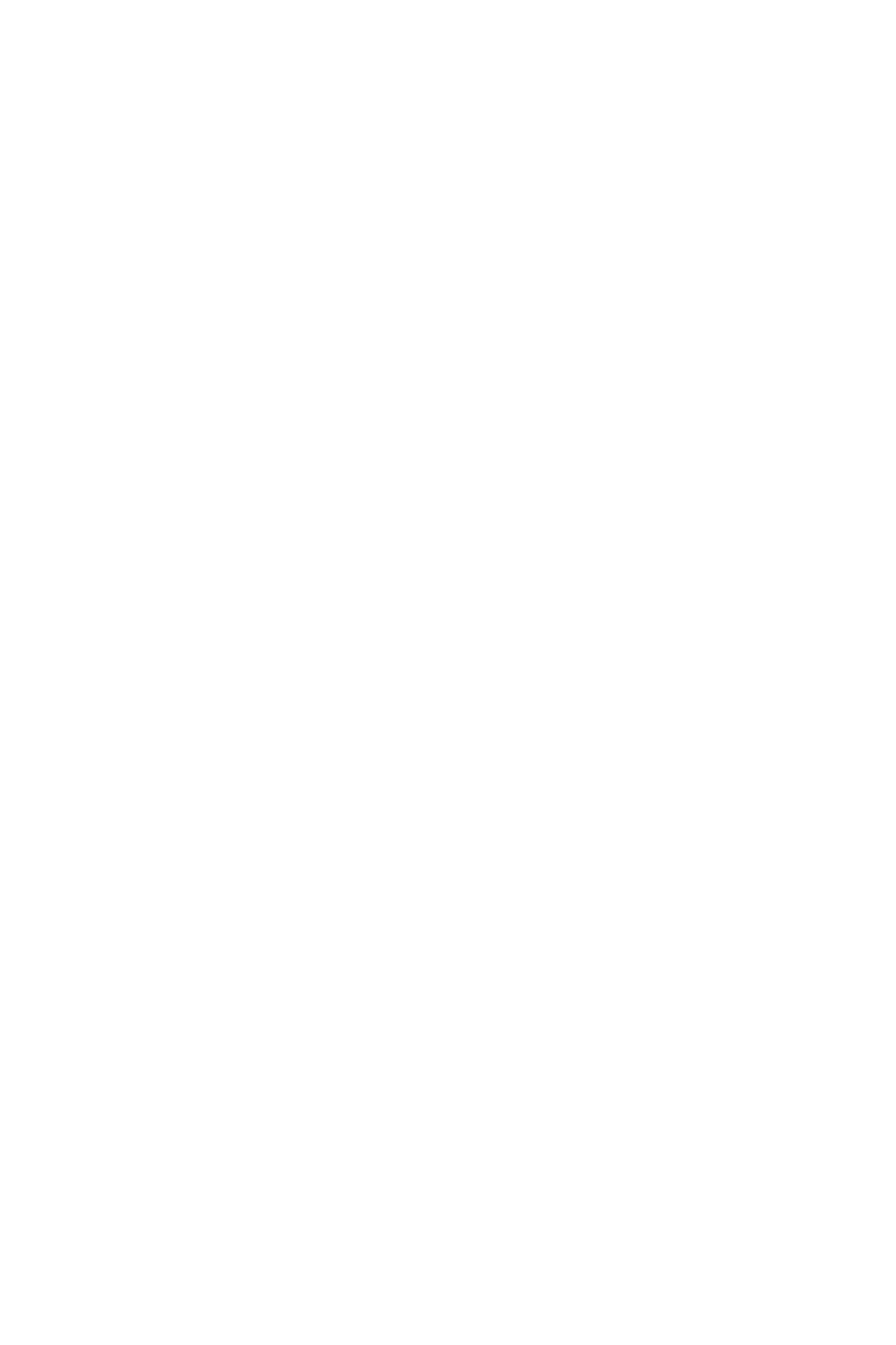
Томас Огден "Разговор как сно-видение", часть 1
В аналитическом сеттинге многие пациенты оказываются неспособными сно-видеть наяву в виде свободных ассоциаций или в любой другой форме. В своей клинической практике автор обнаруживает, что «разговор как сно-видение» может стать формой сно-видения наяву, в которой пациенты могут сно-видеть свой ранее несновидный опыт. Такой разговор представляет собой слабо структурированную форму беседы между пациентом и аналитиком, которая часто носит характер первичного процесса мышления, и очевидно непоследовательна. На первый взгляд «разговор как сно-видение» кажется «неаналитическим», поскольку ведется на такие простые темы, как книги, фильмы, этимология, бейсбол, вкус шоколада, структура света и так далее. Когда в анализе «все идет хорошо», то «разговор как сно-видение» плавно перетекает в разговор о сновидениях и обратно. Автор приводит два подробных клинических примера аналитической работы с пациентами, которые с трудом могли сно-видеть в аналитической обстановке. В первом клиническом примере «разговор как сно-видение» стал формой мышления и отношений, в которых пациентка смогла впервые сно-видеть свой (и, в некотором смысле, отцовский), ранее немыслимый и несновидный опыт. Во втором клиническом примере «разговор как сно-видение» использовался как эмоциональный опыт, в котором ранее «невидимый» пациент смог начать сно-видеть свое существование. При этом, аналитик, участвуя в «разговоре как сно-видении» с пациентом, должен был все время четко осознавать разницу между той ролью, которую играет пациент, и той, которую играет он, аналитик, четко помнить о терапевтических целях анализа, а также предоставлять пациенту возможность самому сно-видеть свое существование (в отличие от того, что аналитик сно-видит о нем).
Ключевые слова: разговор, сновидение, ревери, сновидение наяву, несновидный опыт, неприснившиеся сны
«Тетя, поговори со мной: я боюсь, потому что тут очень темно». Тетка ответила ему: «Что тебе с того? Ведь ты меня не видишь». – «Это ничего не значит, – ответил ребенок, – когда кто-нибудь говорит, то становится светло» (Freud, 1905, p. 224, fn. 1).
ВведениеИдею о том, что аналитик должен изобретать психоанализ заново с каждым пациентом, я считаю фундаментальной для понимания психоанализа. Во многом это достигается посредством постоянного эксперимента в рамках психоаналитической ситуации, в которой пациент и аналитик создают уникальные способы разговора друг с другом, специфические для каждой аналитической пары в конкретный момент анализа.
В данной работе я сосредоточусь главным образом на таких формах разговора между пациентом и аналитиком, которые на первый взгляд могут показаться «неаналитическими», потому что пациент и аналитик обсуждают такие вещи, как книги, стихи, фильмы, правила грамматики, этимологию, скорость света, вкус шоколада и так далее. Как бы это ни выглядело, по моему опыту, такие «неаналитические» разговоры часто позволяют пациенту и аналитику начать делать то, что ранее было невозможно, - сно-видеть вместе. Я назвал эти разговоры «разговор как сно-видение». Подобно свободным ассоциациям, в отличие от обычного разговора, «разговор как сно-видение», как правило, похож на первичный процесс мышления и кажется совершенно нелогичным (с точки зрения вторичного процесса мышления).
Когда в анализе «все идет хорошо» (Winnicott, 1964, p. 27), пациент и аналитик могут сно-видеть как по одиночке, так и совместно. Область «пересечения» сно-видения пациента и сно-видения аналитика — это и есть то место, где происходит анализ (Winnicott, 1971, стр. 38). Сно-видение пациента в этом случае происходит в форме свободных ассоциаций (или в виде игры в детском анализе); а сно-видение аналитика наяву часто принимает форму ревери. Если пациент не способен сно-видеть, то это становится самым трудным аспектом анализа. Именно этим ситуациям и посвящена данная статья.
Я считаю, что сно-видение является наиболее важной психоаналитической функцией психики: там, где выполняется бессознательная «работа сно-видения», там же проделывается и бессознательная «работа понимания» (Sandler, 1976, p. 40); там, где есть бессознательный «сновидец, который сно-видит» (Grotstein, 2000, p. 5), существует бессознательный «сновидец, который понимает этот сон» (p. 9). Если бы это было не так, то только те сны, которые запоминаются, а затем интрепретируются аналитиком или в самоанализе, могли бы осуществлять психологическую работу. Немногие аналитики сегодня поддерживают идею о том, что только запоминаемые и проинтерпретированные сны способствуют психологическому росту.
Участие аналитика в «разговоре как сно-видении» предполагает особый аналитический подход к пациенту. Он всегда направлен на решение аналитической задачи, заключающейся в том, чтобы помочь пациенту начать в более полной мере проживать свой опыт, стать «более собой». Кроме того, «разговор как сно-видение» отличается от других разговоров, которые могут иметь с ним внешнее сходство (например, разговоры, которые никуда не ведут, или даже серьёзные разговоры между супругами, родителями и детьми, или братьями и сестрами). Отличие заключается в том, что аналитик, участвующий в таком разговоре, непрерывно наблюдает и пропускает через себя два тесно переплетающихся уровня эмоционального опыта: 1) «разговор как сно-видение» в качестве опыта, который возникает у пациента в процессе сно-видения уже имеющегося у него эмоционального опыта; и 2) размышления аналитика и пациента, и порой их разговор, об опыте понимания (познавания) того значения, которое приобретает для пациента эмоциональная ситуация, с которой он сталкивается в процессе сно-видения.
Далее, я приведу две клинические иллюстрации «разговора как сно-видения». В первом случае, разговор пациентки и аналитика становится формой сно-видения определенных переживаний пациентки (и, в некотором смысле, переживаний ее отца), которые ранее она не могла сно-видеть. Во втором клиническом примере пациент и аналитик ведут «разговор как сно-видение», в котором аналитик участвует в ранних попытках пациента «сно-видеть себя», «сно-видеть свое существование».
Теоретический контекст
Теоретический контекст настоящего исследования базируется на радикальной трансформации психоаналитической концепции о сновидении и неспособности сно-видеть, которую предложил Бион (Bion, 1962b, 1992). Точно так же, как Винникотт сместил фокус аналитической теории и практики с игры (как с символического представления о внутреннем мире ребенка) на сам процесс игры, Бион сместил фокус с символического содержимого мыслей на процесс мышления, а с символического значения сновидений - на сам процесс сно-видения.
Для Биона (Bion, 1962а) «альфа-функция» (набор психических функций, которые до сих пор неизвестны и, возможно, никогда не будут известны) преобразует сырые «сенсорные впечатления, связанные с эмоциональным опытом» (p. 17) в альфа-элементы, которые могут связываться для формирования аффективно-нагруженных мыслей-сновидений. Мысль-сновидение представляет собой эмоциональную проблему, с которой человек должен справиться (которую должен выдержать) (Bion, 1962а, 1962б; Meltzer, 1983), тем самым обеспечивая появление способности сно-видеть (что является синонимом бессознательного мышления). «Мыслям-[сновидениям] нужен аппарат, чтобы совладать с ними… Мышление [сно-видение] возникает для того, чтобы справляться с мыслями-[сновидениями]» (Bion, 1962b, p. 306). В отсутствии альфа-функции (своей или предоставленной другим человеком), невозможно сно-видеть, и, следовательно, невозможно использовать тот эмоциональный опыт, который был пережит (ни прошлый, ни настоящий), для выполнения бессознательной психологической работы. Таким образом, человек, неспособный сно-видеть, оказывается запертым в бесконечном и неизменном мире того, что есть.
Несновидный опыт может быть вызван травмой - невыносимыми болезненными эмоциональными переживаниями, такими как преждевременная смерть родителей, смерть ребенка, военные действия, изнасилование или заключение в концентрационный лагерь. Но несновидный опыт также может возникать и вследствие «внутрипсихической травмы», другими словами, в результате переполнения сознательными и бессознательными фантазиями. Эта форма травмы может быть связана с неспособностью матери адекватно заботится о младенце и успокаивать его ранние тревоги, или из-за врожденной психической хрупкости младенца. Начиная с раннего детского возраста, эта травма делает человека неспособным сно-видеть свой эмоциональный опыт, даже при наличии достаточно хорошей матери. Несновидный опыт, будь он следствием преимущественно внешнего или внутрипсихического воздействия, остается с человеком как «неприснившиеся сны» в виде психосоматических заболеваний, психозов, сопровождаемых расщеплением, состояний «дизаффектации» (McDougall, 1984), «капсул аутизма» (Tustin, 1981), тяжелых перверсий (De M'Uzan, 2003) и зависимостей.
Именно это представление о сно-видении и о невозможности сно-видеть лежит в основе моего собственного подхода к психоанализу как к терапевтическому процессу. Как я писал ранее (Ogden, 2004, 2005), я рассматриваю психоанализ как опыт, в котором пациент и аналитик экспериментируют в рамках аналитической ситуации, создающей условия, в которых анализируемый (с участием аналитика) может сно-видеть ранее несновидный эмоциональный опыт (свои «неприснившиеся сны»). Я считаю, что «разговор как сно-видение» является импровизацией в форме свободно структурированной беседы практически на любую тему, в которой аналитик участвует в процессе сно-видения пациентом ранее неприснившихся ему снов. Таким образом аналитик способствует тому, чтобы пациент более полно сно-видел свое собственное существование.
Фрагменты двух анализов
Далее я представлю клинические виньетки из моей аналитической работы с двумя пациентами, которые очень сильно были ограничены в способности сно-видеть свои собственные эмоциональные переживания в форме свободных ассоциаций или в других формах сно-видения. В обоих анализах, в конечном итоге, при участии аналитика пациенты смогли начать по-настоящему сно-видеть в форме «разговора как сно-видение».
I. «Разговор как сно-видение» неприснившихся ранее снов
Миссис Л., высокообразованная и состоявшаяся женщина, начала анализ из-за сильных страхов, что ее семилетний сын Аарон заболеет и умрет. Сама она также страдала от почти невыносимого страха смерти, который с определенной периодичностью парализовал ее и на несколько недель лишал возможности функционировать. Эти страхи усиливались уверенностью в том, что ее муж был настолько эгоцентричен, что не смог бы позаботиться о сыне, если бы с ней что-нибудь случилось. Миссис Л. до такой степени была зациклена на страхах за жизнь сына и свою собственную, что в первые годы анализа говорила только об этом. Другие аспекты ее жизни, казалось, совершенно ее не волновали. Идея о том, что пациентка приходила ко мне поразмышлять о своей жизни, не имела практически никакого значения — она приходила на каждую сессию с единственной надеждой, что я смогу освободить ее от этих страхов. Сновидческая жизнь миссис Л. почти полностью состояла из «сновидений», которые таковыми не являлись (Bion, 1962а; Ogden, 2003, 2004). То есть, череда повторяющихся сновидений и ночных кошмаров, в которых она была бессильна предотвратить одну катастрофу за другой, никак не меняла ее. Мой собственный опыт ревери был скудным и непригодным для психологической работы (подробное исследование аналитического использования опыта ревери см. в Ogden, 1997a, 1997b).
С самого начала анализа ее манера речи была особенной. Она говорила судорожно, выпаливая слова, словно пыталась уместить в каждый вдох как можно больше слов. Мне казалось, что миссис Л. боялась, что в любой момент у нее перехватит дыхание, или что я прерву ее, сказав, что с меня хватит и я больше не могу ее слушать.
К началу второго года анализа казалось, что пациентка потеряла всякую надежду на то, что я могу ей помочь. Едва замедляясь после моих слов, она тут же продолжала ход мысли, который я на мгновение прерывал. Она казалась почти незаинтересованной в том, что я говорил – возможно потому, что по тону моего голоса и ритму речи она почти сразу могла почувствовать, что то, что я собирался сказать, не принесет ей того облегчения, которое она искала. Пациентка реагировала на страх и отчаяние, которое чувствовала, заполняя сессию комками слов, одним за другим, заглушавших всякую возможность настоящего сно-видения и мышления как для нее, так и для меня. На одной из сессий, состоявшейся в тот период анализа, я сказал миссис Л., что, по моему мнению, она чувствовала, что ее так мало внутри самой себя, что этого не хватало на то, чтобы совершить какие-либо изменения посредством мышления и разговора. (Я имел в виду ее неспособность говорить, не разрубая предложения и абзацы на куски. Единственным способом, с помощью которого она могла представить изменения в свой жизни, было облегчение, котором я должен был ее обеспечить.) После этих слов пациентка задумалась немного дольше обычного, прежде чем продолжить свои рассказы. Я отметил, что сказанное мною, кажется, было совершенно бесполезным для нее.
В течение нескольких месяцев, предшествовавших сессии, которую я представлю ниже, речь пациентки стала менее напряжённой. Впервые она смогла говорить с чувствами о своем детстве. До этого момента пациентка как будто чувствовала, что не было «времени» (т.е. психологического пространства) для размышлений и разговоров о чем-либо, кроме как о ее усилиях «справляться» с тем, чтобы не сойти с ума. Постепенно страх умереть, а также беспокойства по поводу Аарона, уменьшились до такой степени, что она снова смогла читать, впервые с тех пор, как родился Аарон. Чтение и изучение литературы было страстью пациентки в колледже и в университете. Аарон родился всего через несколько месяцев после того, как она защитила свою докторскую диссертацию.
Сессия, о которой пойдет речь, состоялась в понедельник, и пациентка начала ее, сказав мне, что за выходные она перечитала роман Дж. М. Кутзи Позор (1999). (Мы с миссис Л., вкратце обсуждали работы Кутзи в течение предыдущего года анализа. Как и миссис Л., я восхищался Кутзи как писателем, и, несомненно, это проявилось в наших коротких беседах о нем). Миссис Л. промолвила: «В этой книге [действие в которой происходит в Южной Африке после апартеида] есть что-то такое, что заставляет меня возвращаться к ней. Главный герой [профессор колледжа] пытается вернуть себя к жизни, если он вообще когда-либо был живым, занимаясь сексом с одной из своих студенток. Кажется неизбежным, что девушка сдаст его, и когда она это делает, он даже не пытается защищаться. Он также не идет на то, чтобы принести извинения на ученом совете, как призывают сделать друзья и коллеги. И вот его увольняют. Такое впечатление, что вся его жизнь — это позор, и что этот случай всего лишь последнее этому доказательство, доказательство, которое он не может и не хочет опровергать».
Хотя пациентка говорила в характерной для нее манере (комками выпаливая слова), было очевидно, что происходит изменение: миссис Л. говорила с искренней живостью в голосе о чем-то, что непосредственно не касалось ее опасений за безопасность Аарона или ее собственного здоровья. (Следует помнить, что эта перемена не возникла в описываемой сессии внезапно. Она развивалась в течение нескольких лет, начиная с ноток юмора и непреднамеренного, но оцененного каламбура то тут, то там, случайного сновидения, в котором было немного больше живости, чем обычно, а также моих ревери, неожиданно приобретавших жизненную силу. Очень медленно такие разрозненные события стали элементами неосознаваемого способа существования, ожившего в той форме, которую я описываю).
Я не стал говорить пациентке свои мысли о том, что она, размышляя о главном герое книги, возможно, говорила о своем собственном психологическом конфликте, то есть, о том, что одна ее часть (отождествляющая себя с отказом главного героя лгать) казалось, противоречила другой ее части (для которой страх смерти вытеснял возможность подлинного мышления, чувствования и разговора). Но сказать что-либо из этого миссис Л. было равносильно тому, что разбудить пациентку, видевшую, возможно, свое первое сновидение в анализе, и сообщить ей мое понимание сна. Тем не менее, для меня был важно сделать эту интерпретацию молча, про себя, потому что, как вы увидите, в то время я сам уклонялся от мышления и чувствования.
Я сказал миссис Л.: «Размышления Кутзи в «Позоре» — одни из самых «несентиментальных» размышлений, которые я когда-либо читал. В каждом предложении он ясно дает понять, что презирает заигрывание с любым человеческим опытом. Опыт есть опыт, не больше и не меньше». Говоря это, я почувствовал, что вступаю в особый вид мышления и разговора с пациенткой, отличный от любого другого взаимодействия, которое происходило раньше в анализе.
Миссис Л., к моему некоторому удивлению, продолжила разговор, сказав: «Что-то есть в том, что происходит между персонажами и в персонажах — как бы ужасно это ни звучало — что-то странно правильное».
Затем я сказал нечто, что на тот момент казалось нелогичным: «В своих ранних работах Кутзи, казалось, еще не знал, кем он является как писатель и даже как человек. Он неловкий, поэтому пробовал то так, то эдак. И иногда я себя чувствую неловко с ним». (Мне показалось, что слова «неловко с ним» говорили скорее про то, как я чувствовал себя на сессии с миссис Л., и отличались от фразы «мне стыдно за него», которую я мог бы употребить. В ответ на неловкость наших попыток говорить / мыслить / сно-видеть по-новому я подчеркнул как мое собственное чувство самоосознания, так и пациентки.
Потом миссис Л. сказала еще одну несвязную реплику: «Даже после изнасилования дочери главного героя и расстрела собак, которых она так любила, он нашел способы ухватиться за осколки своей человечности, которые в нем остались. Помогая ветеринару усыпить собак, у которых не было никого, и не было места на земле, которому бы они принадлежали, он пытался уберечь их тела от унизительного обращения с ними, как с мусором. Он сделал своим долгом прийти туда рано утром, чтобы самому поместить трупы в кремационную печь, а не отдавать их рабочим, которые ее обслуживали. Он не мог видеть, как рабочие ломали окоченевшие лапы собак лопатами, пытаясь запихнуть их тела в печь. Ведь вытянутые собачьи лапы не помещались в проем дверцы печи». Пока миссис Л. говорила, в ее голосе звучали грусть и теплота. Слушая ее, я вспомнил разговор с близким другом, который состоялся вскоре после того, как он вернулся из больницы домой, где его состояние казалось безнадежным. Он сказал мне, что извлек из этого опыта одно: «Смерть не требует мужества. Это как быть на ленте конвейера, который везет тебя к концу». И добавил: «Умирать легко. Тебе не нужно ничего делать». Я вспомнил, как во время нашего разговора меня потрясло то, с каким достоинством он встретил смерть в больнице, а также его способность оставаться ироничным и остроумным, чтобы не быть раздавленным этим опытом, даже при настолько сильном эмоциональном и физическом истощении.
Когда я снова сосредоточился на миссис Л., я прокомментировал то, что она рассказывала об обращении с трупами собак (и то, с какой сострадательностью она это делала), сказав: «При этом он знал, что его жест [в отношении кремации собак] был настолько незначительным, что мало кто или что в этой вселенной обратил бы на него внимание». Говоря это, я начал думать (в новом для меня ключе в этом анализе) о влиянии ужасных смертей на жизнь миссис Л. Пациентка рассказала мне в начале анализа, а затем еще раз на одной из сессий, состоявшейся незадолго до описываемой, что первая жена ее отца и их трехлетняя дочь погибли в автокатастрофе. (Пациентка очень любила своего отца и ощущала его любовь). В обоих случаях, когда миссис Л. рассказывала о смерти первой жены отца и их дочери, она делала это так, как будто сообщала мне факт, которой я должен был знать, потому что аналитики (с их стереотипным мышлением) склонны придавать большое значение таким вещам. В этот момент я смог использовать ту самую интерпретацию, которая пришла мне в голову, и которую я не озвучил, относительно того, как пациентка (и я) избегали мыслить / сно-видеть / говорить / вспоминать о том, что соответствовало бы переживаемому нами эмоциональному опыту. В своей работе с миссис Л. я больше года не мог а, может быть, и не хотел думать / сно-видеть / помнить и хранить в себе ту огромную (невообразимую) боль, которую отец пациентки и пациентка пережили в связи со смертью его первой жены и их дочери. Я был поражен тем, что не смог сохранить в себе эмоциональное воздействие этих смертей.
В тот момент сессии я начал сно-видеть (выполнять сознательную и бессознательную психологическую работу) о том, что теперь я воспринимал как переживание пациенткой «позора» за то, что она жила «вместо» первой жены своего отца и их дочери и «вместо» частей ее отца, которые умерли вместе с ними. Миссис Л. ответила на мои слова о «незначительных», но важных жестах главного героя, сказав: «В книгах Кутзи смерть — это не самое худшее, что может случиться с человеком. По какой-то причине меня эта мысль успокаивает. Не знаю почему, но мне вспоминается любимая строчка из мемуаров Кутзи, в которой, по сути, он говорит: «Все, что мы можем делать, это тупо упорствовать в наших неоднократных неудачах». Миссис Л. громко рассмеялась так, как никогда не делала этого раньше, и сказала: «Собаки сегодня везде. Я очень люблю собак. Они самые невинные создания в животном царстве». Затем она задумалась и произнесла: «Нет ничего гламурного в повторяющихся неудачах, когда они происходят. Я чувствую себя такой же неудачницей, как моя мать. Я не могу лгать себе и притворяться, что моя одержимость смертью Аарона не сказывается на нем и не пугает его до смерти. Я не хотела бы говорить — «пугает до смерти», — но по моим ощущением именно это я и делаю с ним. Меня ужасает мысль о том, что я пугаю его до смерти и убиваю своим страхом, но я не могу остановить это. В этом и есть мой «позор»». Миссис Л. заплакала. На тот момент мне казалось очевидным, что реакция ее отца на его собственные «немыслимые» потери пугала ее до смерти.
Тогда я сказал: «Мне кажется, что вы чувствовали себя позором всю свою жизнь. Боль вашего отца была невыносима не только для него, но и для Вас. Вы не могли помочь отцу с его невообразимой болью. Его боль была для вас такой невыносимой, что вы до сих пор находитесь в ее объятиях вместе с ним. Это - боль, которую никто не может вместить». Впервые в анализе я обратился к неспособности пациентки не только помочь отцу, но и к ее неспособности сно-видеть себя, реагирующую на его боль. Я подумал, но не сказал, что ей было стыдно за ту злость, которую она испытывала по отношению к отцу за то, что он не смог быть тем отцом, которого она хотела иметь. Более того, она вымещала свою злость на мужа, высказывая ему свое презрение за то, что он был никудышным отцом для их сына, как она считала.
Миссис Л. не ответила прямо на мои слова, а вместо этого сказала: «Я думаю, что это странно, что я считаю героев книги Кутзи храбрыми. Они сами так не думают. Но мне они такими кажутся. В Жизни и временах Майкла К. [1983], Майкл К. [чернокожий мужчина, живущий в южноафриканском апартеиде] собирает тележку из обрезков дерева и металла. Он тащит свою умирающую мать в город, в котором она родилась, чтобы она умерла там, и эта телега наиболее похожа на тот дом, который у нее когда-то был. Я не думаю, что Майкл К. чувствовал себя храбрым, когда делал это. Он просто знал, что он должен был это сделать. Но это была обреченная попытка. И мне кажется, что он знал об этом с самого начала, и я думаю, что я тоже знала. Но это нужно было сделать. Это было правильным решением».
Она продолжила: «Мне нравится, что главными героями Кутзи часто являются женщины. В «Железном веке» [1990] главная героиня романа [белая женщина, живущая в южноафриканском апартеиде] взяла к себе бездомного чернокожего мужчину и сначала испытывала к нему чувства жалости и вины, а затем восхищалась и злилась на него, а также любила странным образом. Она ни разу не слукавила, когда разговаривала с ним или с собой. Иногда мы можем быть такими же. Мы делали это сегодня — не полностью, но достаточно для того, чтобы я почувствовала себя сильнее, хотя это не значит, что я стала счастливее. Но сейчас мне сила нужна больше, чем счастье». В этих словах я услышал, что она почувствовала, хотя не могла признаться в этом (даже себе самой), восхищение, гнев и свою странную любовь ко мне, а также то, что она надеялась, что однажды и я смогу все это почувствовать к ней.
Течение этой сессии было гораздо более запутанным, чем я смог его описать. Мы перескакивали с темы на тему, от книги к книге, от чувства к чувству, не ощущая необходимости связывать одно с другим, или мыслить логически, или прямо отвечать на то, что сказал собеседник. Мы говорили о решении Кутзи жить в Аделаиде, Австралии, о язвительной антикапиталистической речи Джона Бергера на церемонии вручения Букеровской премии Кутзи, о нашем разочаровании в его двух последних романах и так далее. Невозможно с точностью сказать, какие из этих тем обсуждались на данной сессии, а какие - на последующих. Я также не могу с полной уверенностью утверждать, какие части представленного диалога принадлежали миссис Л., а какие - мне.
По мере того, как эмоциональный опыт этой сессии развивался в последующие недели и месяцы, пациентка рассказала мне, что когда она была маленькой, у ее отца были тяжелые приступы депрессии, и она чувствовала ответственность за то, чтобы помочь ему выйти из них. Она добавила, что часто и подолгу сидела с ним в то время, когда «он безудержно рыдал, захлебываясь слезами». Когда миссис Л. описывала свой опыт, мне пришло в голову, что ее отрывистая речь, как будто она пыталась запихнуть как можно больше слов в один вдох, могла быть связана с ее переживаниями в те моменты, когда ее отец захлебывался слезами в бесконтрольных рыданиях. Возможно, ее неспособность сно-видеть этот опыт, привела к тому, что она соматизировала свои (и его) неприснившиеся сны в собственной манере говорить и дышать.
В общем и целом, то, как мы с миссис Л. говорили о книгах на описанной сессии, стало формой «разговора как сно-видения». Это был опыт сно-видения, который не принадлежал исключительно мне или пациентке. Миссис Л. лишь изредка удавалось достичь состояния сно-видения наяву к этому моменту анализа. Поэтому, она продолжала оставаться запертой в ловушке бесконечного мира расщепленного несновидного опыта, который не только лишил ее отца и ее саму значительной части их жизни, но также убивал ее ребенка. У миссис Л. развились психосоматические симптомы (ее манера речи и дыхания), а также сильный страх смерти, в тот психологический момент, когда она оказалось неспособной сно-видеть свой опыт переживания депрессии отца или свой гнев на него.
По мере развития описываемой сессии, пациентка смогла сно-видеть (в форме «разговора как сно-видения») прежде несновидный опыт ее отца и собственные переживания, связанные с ним. Этот «разговор как сно-видение» перетекал в разговор о сновидениях и обратно. Я считаю, что такое движение между «разговором как сно-видение» и разговором о сновидениях является отличительной чертой психоанализа, когда он становится «поводом для беспокойства».
Продолжение следует...
Перевод текста: Олеся Гайгер и Елизавета Ермолова
Фотограф: Полина Калашникова
Фотограф: Полина Калашникова
