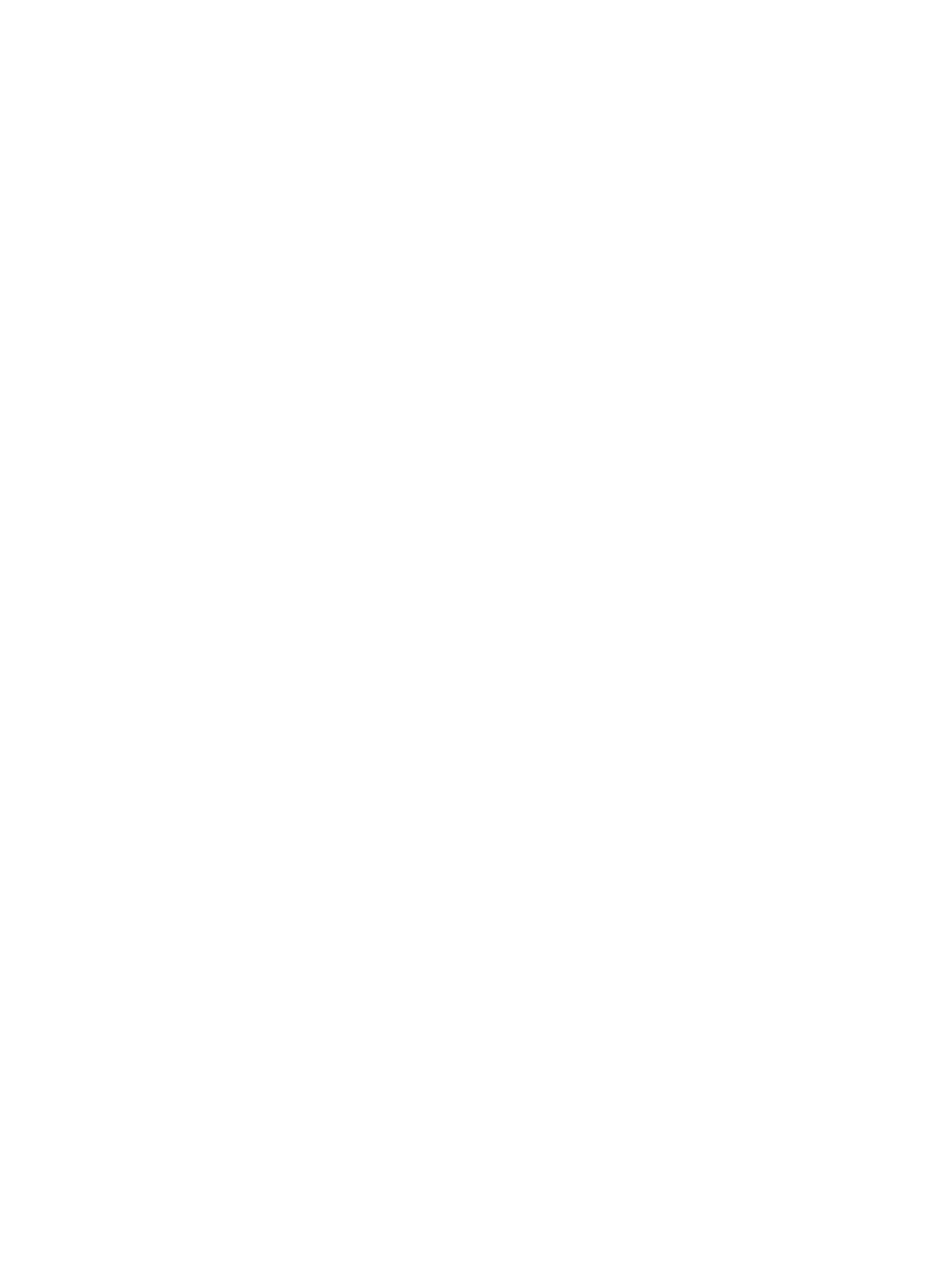Размышления
«Невыносимый крик»: психоаналитические размышления о реакции взрослых на плач младенца
Женщина пришла в салон, чтобы сделать маникюр, уселась поудобнее в кресло, припарковала детскую коляску рядом с собой и приготовилась к процедуре. Сначала все было тихо, ее ребенок мирно посапывал во сне, она попивала кофе, и ничего не предвещало волнений…
Вдруг малыш проснулся, начал тужиться, весь покраснел и громко раскричался. В этот момент весь салон как парализовало: и мастера, и клиенты замерли на мгновение, а некоторые обернулись в ее сторону. Повисла напряженная тишина и, как ей показалось, даже музыка перестала звучать.
«Что?» - пожала она плечами. «Младенцы издают разные звуки, плачут, сейчас у него колики, ему больно, вот он и плачет». Но ее слова как будто утонули в этой тишине. Кто-то смотрел на нее с жалостью и сочувствием, кто-то – с упреком и раздражением, кто-то – с тревогой и даже паникой, мол, «немедленно успокойте своего ребенка!»
Она взяла сына на руки, но он продолжал плакать и поджимать ножки, колики ведь так быстро не проходят... Атмосфера в салоне начала накаляться, как будто детский плач был самым невыносимым звуком на свете…
Хотя, если задуматься, то крик младенца является абсолютно естественным и, более того, одним из немногих способов его коммуникации с миром. Но нередко он оказывается одним из самых аффективно заряженных раздражителей для взрослого человека, и может вызвать самый широкий спектр реакций: от эмпатии до раздражения, бессилия и даже ярости.
С точки зрения процессов развития, плач новорожденного — это сигнал о некой потребности или о напряжении, которое испытывает ребенок: о боли, голоде, страхе, тревоге и так далее. Этот сигнал является сырым, несодержательным и, как отмечал Дональд Винникотт (Winnicott, 1949), неумолимым. Способность матери или заботящегося взрослого «удерживать» (hold) этот крик и откликаться на него формирует первичную матрицу доверия у ребенка и переживания им непрерывности своего существования.
В связи с тем, что мир новорожденного прежде всего является телесным миром (Огден, 2024), младенец проецирует все раздражители и прото-сенсорные ощущения во внешний объект, потому что они для него невыносимы. До тех пор, пока он не научится обрабатывать этот опыт сам, а также понимать, что с ним происходит, он будет эвакуировать его, чтобы эту работу сделал за него кто-то другой.
Таким образом, его плач представляет собой сенсорное проявление данной «психической» эвакуации. Слово «психической» я взяла в кавычки, потому что то, что он эвакуирует, еще не является психическими единицами. Мать как раз представляет собой тот самый объект, который в своей психике должен обработать и превратить в психические единицы то, что в нее поместил младенец.
Именно от ее способности контейнировать, то есть принимать, перерабатывать и возвращать малышу этот опыт в более переносимой форме, и зависит то, какой фундамент будет заложен для развития у него способности к мышлению. Ведь мы знаем, что мышление формируется не само по себе, а в ответ на необходимость справляться с эмоциональными переживаниями.
Другими словами, если мать замечает страдания своего ребенка, понимает, что он чувствует, успокаивает его (телесно, голосом, взглядом), то она перерабатывает его «сырой» эмоциональный опыт, как бы «переваривает» его у себя, придает ему смысл, а потом возвращает в облегченной, понятной и безопасной форме (например: «Это боль, она проходит. Это голод, его можно утолить» и так далее).
Но в реальности не существует таких матерей, которые обладают так называемым «всемогущим контейнером», то есть, всегда доступных, способных выдерживать все, бесконечно долго и без остатка. Более того, из-за усталости, собственной тревоги, депрессии, внутренних конфликтов, неразрешенной травмы и так далее, и без того ограниченный материнский «контейнер» может давать сбои.
С другой стороны, есть и переживания самой матери. Как отмечал Дональд Винникотт (Winnicott, 1949) в своей знаменитой статье «Ненависть в контрпереносе», младенец, который «кричит всю ночь» или отказывается успокаиваться, испытывает на прочность психические границы матери. И в ответ на его ненасытные требования, у нее естественным образом возникает… ненависть.
В своей статье Винникот описал причины, по которым мать может ненавидеть своего ребенка. Например, за то, что он полностью зависим от нее; за то, что «высасывает» ее досуха; за его нескончаемые требования; за разрушенный сон; за вмешательство в ее личную жизнь, за крик в самый неподходящий момент, за его безжалостность, и так далее. Этот список достаточно радикален, но он является актуальным и по сей день.
Если мать является более или менее психически «зрелой», то она будет способна выдерживать выше описанное без ответной агрессии, не разрывая связь со своим ребенком. Если же ее внутренний «контейнер» является достаточно хрупким, то эта ненависть будет прорываться в механизмах избегания, разрядки или в действиях (в агрессии, ступоре, соматизации и так далее).
Причем, чем более несостоятельным является материнский контейнер, тем более преследующим становится для нее неосмысленный крик младенца. Дональд Мельцер (1968) утверждал, что несконтейнированные проективные идентификации малыша могут приводить даже к тому, что мать будет испытывать тревогу дезинтеграции.
Возникает замкнутый круг: каждый взрослый, будучи младенцем, сталкивался с крахом фантазии об идеальной матери, всегда доступной, способной все выдержать и так далее. Это означает, что какая-то часть его раннего опыта так и осталась нераспознанной и необработанной его матерью, которая тоже когда-то была точно таким же младенцем…
Тогда становится понятно, почему взрослому сложно выносить плач ребенка.
Эстер Бик, автор метода наблюдения за младенцами (Bick, 1964) подчеркивала, что несконтейнированный крик новорожденного может резонировать с бессознательными конфликтами внутри самого наблюдателя. А Томас Огден (Ogden, 2005) утверждал, что «прерванные» крики младенца отзываются в собственных примитивных тревогах [наблюдателя], а именно в его «внутреннем плачущем ребенке».
Именно так работает механизм идентификации. Аффективный резонанс возникает тогда, когда взрослый слышит плач ребенка, и в ответ у него оживают его собственные ранние переживания неудовлетворенных потребностей, беспомощности или примитивного ужаса.
Причем, если его плач, когда он был ребенком, игнорировался, высмеивался, подавлялся любыми способами, то скорее всего, у него не сформировался внутренний «контейнер», чтобы потом, будучи взрослым, выдерживать подобные состояния в другом. И тогда крик любого младенца будет прорывать хрупкую систему психической защиты такого взрослого, вызывая у него панику, диссоциацию или агрессию.
Плач является «невыносимым» именно потому, что это не столько крик младенца, сколько реактивация вытесненной зависимости и неудовлетворенной потребности самого взрослого. На практике это означает, что взрослый, сталкиваясь с настойчивым криком младенца, вынужден встречаться с собственным чувством неадекватности, вины или ярости.
Родители признаются, что иногда (иногда ли?) испытывают интенсивное раздражение или даже неконтролируемые импульсы заставить ребенка замолчать силой. Подобные импульсы могут становиться опасными, если их не осознавать, и следовательно, не выдерживать и не трансформировать в заботу.
С другой стороны, Маргарет Растин (Rustin, 2019) также отмечала, что так называемое современное родительство создает колоссальное давление на матерей, чтобы они были бесконечно терпеливыми. Социальные табу на признание негативных чувств по отношению к ребенку только усиливают чувство стыда и ощущение изоляции у родителей, которые не могут вынести детский плач.
Некоторые родители бессознательно воспроизводят свой собственный ранний дефицит заботы, эмоционально отстраняясь или диссоциируясь при столкновении с детским дистрессом. Другие проецируют вину вовне, интерпретируя нормальную зависимость ребенка как манипуляцию, агрессию или даже атаку на их психику.
Таким образом, неспособность взрослого вынести плач младенца — это не просто вопрос отсутствия терпения или «дурного характера». Это психическое эхо собственных примитивных, неосмысленных (сырых) переживаний беспомощности и страха.
Более того, ненависть к крику младенца не делает человека плохим родителем. Она лишь показывает, насколько уязвим его собственный внутренний ребенок, и как много зависит от способности этого родителя выдерживать, символизировать, переваривать эти примитивные импульсы.
Психоаналитическая работа подчеркивает важность исследования этих невыносимых чувств. Это является шагом к тому, чтобы вместо бессознательного разрыва связи со своим ребенком или агрессии в его сторону, появлялось пространство для символизации: кто или что именно кричит внутри меня, когда кричит ребенок?
Литература:
Bick, E. (1964) Notes on Infant Observation. International Journal of Psycho-Analysis, vol.45, pp.558-66.
Meltzer D. (1968) Terror, Persecution, Dread. International Journal of Psycho-Analysis, vol.49, pp.396-411.
Ogden, T. H. (2005). This Art of Psychoanalysis: Dreaming Undreamt Dreams and Interrupted Cries. London: Routledge.
Rustin M. (2019) Infant Observation and the Development of Psychoanalytic Thinking. Routledge.
Winnicott, D. W. (1949). Hate in the Counter-Transference. International Journal of Psycho-Analysis, vol.30, pp.69-74.
Огден Т. (2024) Матрица Психики. Объектные отношения и психоаналитический диалог / Перевод с английского Анны Левченко— М.: Издательство Beta 2 Alpha.
Вдруг малыш проснулся, начал тужиться, весь покраснел и громко раскричался. В этот момент весь салон как парализовало: и мастера, и клиенты замерли на мгновение, а некоторые обернулись в ее сторону. Повисла напряженная тишина и, как ей показалось, даже музыка перестала звучать.
«Что?» - пожала она плечами. «Младенцы издают разные звуки, плачут, сейчас у него колики, ему больно, вот он и плачет». Но ее слова как будто утонули в этой тишине. Кто-то смотрел на нее с жалостью и сочувствием, кто-то – с упреком и раздражением, кто-то – с тревогой и даже паникой, мол, «немедленно успокойте своего ребенка!»
Она взяла сына на руки, но он продолжал плакать и поджимать ножки, колики ведь так быстро не проходят... Атмосфера в салоне начала накаляться, как будто детский плач был самым невыносимым звуком на свете…
Хотя, если задуматься, то крик младенца является абсолютно естественным и, более того, одним из немногих способов его коммуникации с миром. Но нередко он оказывается одним из самых аффективно заряженных раздражителей для взрослого человека, и может вызвать самый широкий спектр реакций: от эмпатии до раздражения, бессилия и даже ярости.
С точки зрения процессов развития, плач новорожденного — это сигнал о некой потребности или о напряжении, которое испытывает ребенок: о боли, голоде, страхе, тревоге и так далее. Этот сигнал является сырым, несодержательным и, как отмечал Дональд Винникотт (Winnicott, 1949), неумолимым. Способность матери или заботящегося взрослого «удерживать» (hold) этот крик и откликаться на него формирует первичную матрицу доверия у ребенка и переживания им непрерывности своего существования.
В связи с тем, что мир новорожденного прежде всего является телесным миром (Огден, 2024), младенец проецирует все раздражители и прото-сенсорные ощущения во внешний объект, потому что они для него невыносимы. До тех пор, пока он не научится обрабатывать этот опыт сам, а также понимать, что с ним происходит, он будет эвакуировать его, чтобы эту работу сделал за него кто-то другой.
Таким образом, его плач представляет собой сенсорное проявление данной «психической» эвакуации. Слово «психической» я взяла в кавычки, потому что то, что он эвакуирует, еще не является психическими единицами. Мать как раз представляет собой тот самый объект, который в своей психике должен обработать и превратить в психические единицы то, что в нее поместил младенец.
Именно от ее способности контейнировать, то есть принимать, перерабатывать и возвращать малышу этот опыт в более переносимой форме, и зависит то, какой фундамент будет заложен для развития у него способности к мышлению. Ведь мы знаем, что мышление формируется не само по себе, а в ответ на необходимость справляться с эмоциональными переживаниями.
Другими словами, если мать замечает страдания своего ребенка, понимает, что он чувствует, успокаивает его (телесно, голосом, взглядом), то она перерабатывает его «сырой» эмоциональный опыт, как бы «переваривает» его у себя, придает ему смысл, а потом возвращает в облегченной, понятной и безопасной форме (например: «Это боль, она проходит. Это голод, его можно утолить» и так далее).
Но в реальности не существует таких матерей, которые обладают так называемым «всемогущим контейнером», то есть, всегда доступных, способных выдерживать все, бесконечно долго и без остатка. Более того, из-за усталости, собственной тревоги, депрессии, внутренних конфликтов, неразрешенной травмы и так далее, и без того ограниченный материнский «контейнер» может давать сбои.
С другой стороны, есть и переживания самой матери. Как отмечал Дональд Винникотт (Winnicott, 1949) в своей знаменитой статье «Ненависть в контрпереносе», младенец, который «кричит всю ночь» или отказывается успокаиваться, испытывает на прочность психические границы матери. И в ответ на его ненасытные требования, у нее естественным образом возникает… ненависть.
В своей статье Винникот описал причины, по которым мать может ненавидеть своего ребенка. Например, за то, что он полностью зависим от нее; за то, что «высасывает» ее досуха; за его нескончаемые требования; за разрушенный сон; за вмешательство в ее личную жизнь, за крик в самый неподходящий момент, за его безжалостность, и так далее. Этот список достаточно радикален, но он является актуальным и по сей день.
Если мать является более или менее психически «зрелой», то она будет способна выдерживать выше описанное без ответной агрессии, не разрывая связь со своим ребенком. Если же ее внутренний «контейнер» является достаточно хрупким, то эта ненависть будет прорываться в механизмах избегания, разрядки или в действиях (в агрессии, ступоре, соматизации и так далее).
Причем, чем более несостоятельным является материнский контейнер, тем более преследующим становится для нее неосмысленный крик младенца. Дональд Мельцер (1968) утверждал, что несконтейнированные проективные идентификации малыша могут приводить даже к тому, что мать будет испытывать тревогу дезинтеграции.
Возникает замкнутый круг: каждый взрослый, будучи младенцем, сталкивался с крахом фантазии об идеальной матери, всегда доступной, способной все выдержать и так далее. Это означает, что какая-то часть его раннего опыта так и осталась нераспознанной и необработанной его матерью, которая тоже когда-то была точно таким же младенцем…
Тогда становится понятно, почему взрослому сложно выносить плач ребенка.
Эстер Бик, автор метода наблюдения за младенцами (Bick, 1964) подчеркивала, что несконтейнированный крик новорожденного может резонировать с бессознательными конфликтами внутри самого наблюдателя. А Томас Огден (Ogden, 2005) утверждал, что «прерванные» крики младенца отзываются в собственных примитивных тревогах [наблюдателя], а именно в его «внутреннем плачущем ребенке».
Именно так работает механизм идентификации. Аффективный резонанс возникает тогда, когда взрослый слышит плач ребенка, и в ответ у него оживают его собственные ранние переживания неудовлетворенных потребностей, беспомощности или примитивного ужаса.
Причем, если его плач, когда он был ребенком, игнорировался, высмеивался, подавлялся любыми способами, то скорее всего, у него не сформировался внутренний «контейнер», чтобы потом, будучи взрослым, выдерживать подобные состояния в другом. И тогда крик любого младенца будет прорывать хрупкую систему психической защиты такого взрослого, вызывая у него панику, диссоциацию или агрессию.
Плач является «невыносимым» именно потому, что это не столько крик младенца, сколько реактивация вытесненной зависимости и неудовлетворенной потребности самого взрослого. На практике это означает, что взрослый, сталкиваясь с настойчивым криком младенца, вынужден встречаться с собственным чувством неадекватности, вины или ярости.
Родители признаются, что иногда (иногда ли?) испытывают интенсивное раздражение или даже неконтролируемые импульсы заставить ребенка замолчать силой. Подобные импульсы могут становиться опасными, если их не осознавать, и следовательно, не выдерживать и не трансформировать в заботу.
С другой стороны, Маргарет Растин (Rustin, 2019) также отмечала, что так называемое современное родительство создает колоссальное давление на матерей, чтобы они были бесконечно терпеливыми. Социальные табу на признание негативных чувств по отношению к ребенку только усиливают чувство стыда и ощущение изоляции у родителей, которые не могут вынести детский плач.
Некоторые родители бессознательно воспроизводят свой собственный ранний дефицит заботы, эмоционально отстраняясь или диссоциируясь при столкновении с детским дистрессом. Другие проецируют вину вовне, интерпретируя нормальную зависимость ребенка как манипуляцию, агрессию или даже атаку на их психику.
Таким образом, неспособность взрослого вынести плач младенца — это не просто вопрос отсутствия терпения или «дурного характера». Это психическое эхо собственных примитивных, неосмысленных (сырых) переживаний беспомощности и страха.
Более того, ненависть к крику младенца не делает человека плохим родителем. Она лишь показывает, насколько уязвим его собственный внутренний ребенок, и как много зависит от способности этого родителя выдерживать, символизировать, переваривать эти примитивные импульсы.
Психоаналитическая работа подчеркивает важность исследования этих невыносимых чувств. Это является шагом к тому, чтобы вместо бессознательного разрыва связи со своим ребенком или агрессии в его сторону, появлялось пространство для символизации: кто или что именно кричит внутри меня, когда кричит ребенок?
Литература:
Bick, E. (1964) Notes on Infant Observation. International Journal of Psycho-Analysis, vol.45, pp.558-66.
Meltzer D. (1968) Terror, Persecution, Dread. International Journal of Psycho-Analysis, vol.49, pp.396-411.
Ogden, T. H. (2005). This Art of Psychoanalysis: Dreaming Undreamt Dreams and Interrupted Cries. London: Routledge.
Rustin M. (2019) Infant Observation and the Development of Psychoanalytic Thinking. Routledge.
Winnicott, D. W. (1949). Hate in the Counter-Transference. International Journal of Psycho-Analysis, vol.30, pp.69-74.
Огден Т. (2024) Матрица Психики. Объектные отношения и психоаналитический диалог / Перевод с английского Анны Левченко— М.: Издательство Beta 2 Alpha.
1 августа 2025
Автор: Олеся Гайгер